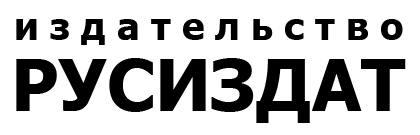Спаситель сказал: «Нет больше той любви, как если кто положит душу за друзей своих». Земная жизнь – отражение реалий духовного мира. В начале истории мироздания Архангел Михаил низверг с неба сатану, восставшего на Бога. Он именуется Архистратигом, то есть военачальником, Небесных сил и изображается с огненным мечом в руке.
Каждый христианин – воин Христов. И хотя «наша брань не к крови и плоти», а сражаться со злом мы призваны, в первую очередь, внутри себя, воинская тематика является органичной частью духовной литературы и церковного искусства.
В древнейшем христианском искусстве воинов-мучеников обычно изображали без оружия, но в воинских поясах и плащах. В руках они держали крест – «меч духовный», принадлежность страдальцев за веру вне зависимости от их земного служения. Так изображены, к примеру, святые вмч. Георгий и Феодор Тирон, предстоящие Богоматери, на иконе VI века, сохранившейся в Синайском монастыре св. Екатерины.
Позднее оружие и доспехи появились на иконах. Они стали не только отображением служения, которое святые воины несли на земле, но и аллегорией духовных добродетелей, берущей начало в послании апостола Павла к Ефесянам: «Итак, станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир; а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие».
Уже в XII столетии в Византии, а вслед за ней и на Руси, святых воинов изображали во всем блеске их служения. Один из блестящих памятников искусства развитой Византии, принесенного на русскую почву, – мозаичный образ великомученика Димитрия Солунского из собора Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве. Святой показан на ней с копьем, мечом и щитом, в доспехах и ниспадающем до земли плаще. Образ его довольно грозен, фигура мужественна и крепка. В Третьяковской галерее хранится еще одна примечательная икона вмч. Димитрия. Святой воин написан на ней сидящим на троне, с венцом на челе. Еще один венец несут мученику ангелы. В руках великомученика – полуобнаженный меч, который он словно на глазах зрителя вынимает из ножен. Композиция образа указывает на небесную славу, которой сподобился страдалец за веру, но в ней явно прочитывается еще одна мысль: о том, что святой продолжает воинствовать со злом, помогая живущим на земле христианам.
Воинский чин может быть отражен не только на иконе святого, но и в его сакральном именовании. К примеру, Церковь с древних времен почитает двух великомучеников: Феодора Стратилата и Феодора Тирона. Слово «стратилат» означает «военачальник», а «тирон» – «новобранец». Офицерское звание устойчиво вошло и в именование святого Лонгина Сотника. Этот человек по долгу службы командовал распинавшими Христа воинами – вероятно, будучи римлянином, он действительно «не ведал, что творит». Кротость и Божественное величие Казнимого произвели переворот в его душе. Лонгин уверовал и отдал жизнь за Христа.
Великомученик Георгий Победоносец изображается на иконах в двух основных вариантах. Как святой воин – с мечом в руках, в доспехах и античном плаще. И как воин небесный – на коне, убивающим дракона, олицетворение мирового зла. Победа над чудовищем, устрашавшим жителей Бейрута, была одержана святым уже после того, как он выиграл главную битву в своей земной жизни: устоял в вере перед лицом мучителей и был казнен. Он явился из иного мира и спас отданную в жертву дракону девушку. Мы не знаем, что это был за дракон: невиданных размеров рептилия или бесовское наваждение. Очевидно, что образ этот давно перерос свое историческое значение и выражает мысль о святости, которая силой Божией побеждает то, против чего оказались бессильными все земные средства. О мужестве и добре, которые сильнее смерти.
В средневековой Руси воинское служение стало принадлежностью еще одного чина святости. Русские князья с младенчества воспитывались как военачальники и защитники родной страны. Те из них, кто сподобился святости, а таковых было немало, нередко изображаются на иконах с атрибутами своего воинского служения. За довольно короткую жизнь они успевали послужить Богу и Отечеству как князья и воины, отцы семейства, а нередко – и монахи, молитвенники за Русь. Благодаря этому один и тот же угодник Божий может быть изображен в разных ипостасях: воинской и мирной, княжеской и монашеской. Особенно примечательны в этом плане святые Александр Невский и Даниил Московский. Они, едва ли не единственные, имеют два чина святости, именуясь то благоверными князьями, то преподобными. Соответственно, на иконах и фресках мы видим их и в иноческом, и в княжеском одеянии.
На иконе благоверного князя Александра Невского меч является не только атрибутом княжеского сана, но и напоминанием о тяжелейшем служении, которое нес этот святой: отстаивать Русь от нападений врагов, стремившихся полонить ее и лишить Православной веры. Примечательны образы, где святой князь показан в обоих ипостасях своего служения. Так, на старинной иконе мы видим его в иноческом облике, молящимся Богу, а на втором плане – панораму сражения на Чудском озере. Так объединяется не только два служения князя, но и два плана бытия: земной и Небесный, исторический и вневременной.
Благоверных князей Бориса и Глеба, прославившихся не битвами, а смиренным принятием смерти от брата-супостата, пишут на иконах без кольчуг и шлемов, но с мечами. Этот образ напоминает о них как о небесных защитниках Руси. Не раз эти святые страстотерпцы являлись русским воинам в преддверии грозных битв и укрепляли их дух, предвозвещая победу.
Могут ли быть отображены на иконе земные атрибуты воинского служения: ордена, элементы военной формы? – Такая практика широко распространена. Это оправдано. Древних воинов – вмч. Георгия, вмч. Димитрия Солунского – мы видим в присущих их эпохе одеждах. Но было бы странным изображать в античных ризах тех, кто жил в XVIII, XIX, XX веках. Уже вошло в традицию изображение праведного воина Феодора Ушакова в мундире XVIII столетия и даже в парике, с узнаваемыми орденами. Эти ордена на иконе несут свою смысловую нагрузку: напоминают об одержанных святым адмиралом победах. Эти победы – не причина причисления св. Феодора к лику святых: канонизируют не за заслуги перед Отечеством. Они – результат самоотверженного служения и веры праведника, ответом на которые стала Божия помощь.
В воинском мундире нередко изображают и Царя-Страстотерпца Николая Александровича с Цесаревичем Алексием. А Государыню и Великих княжон иногда пишут на иконах в костюмах сестер милосердия, так как в годы Первой Мировой войны они самоотверженно помогали раненым в госпиталях. Образ Царя-Мученика как бы замыкает круг изображений святых воинов, прославленных Церковью. Он соединяет в себе все три служения: правителя Руси, воина и страстотерпца.
Алина Сергейчук