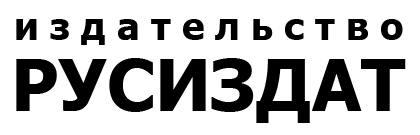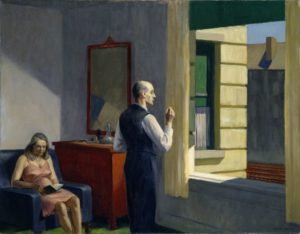
В статье использованы в качестве иллюстраций картины худ. Эдварда Хоппера (там, где не указано иное)
Есть ли жизнь после пандемии? Как нашу работу изменили события последних месяцев и что с этим делать? Беседуем с православным психологом иереем Сергием Торнаги.
- За время «удаленки» многим понравилось работать на дому, по статистике значительная часть сотрудников предпочли бы и впредь хотя бы часть времени трудиться из дома. Как вы оцениваете это явление?
- Психотипы у людей разные. Некоторым хочется больше быть наедине с самими собой и не сталкиваться так часто с офисной жизнью. Тем более что большинство известных мне
офисов организованы абсолютно неправильно с точки зрения психологии: люди скучены, часто в одну комнату заталкивают по 20 сотрудников, они сидят по двое за одним столом. Это невыносимая обстановка: 50 сантиметров вокруг человека – это его интимное пространство. В частности, в общественном транспорте люди такие нервные именно
потому, что происходит нарушение их интимного пространства. В офисе человеку надо работать, а не бороться с раздражением, возникающим из-за дискомфорта от скученности.
Поэтому важно обустроить отдельные кабинки для сотрудников – это поддерживает большую работоспособность, которой не мешает ненужное напряжение. Но, конечно, и при
удаленной работе надо периодически встречаться. Есть такое явление как синергия, когда люди заряжаются идеями друг от друга и энергия профессионального движения умножается. Поэтому многие вещи надо решать коллективно.
 - У многих при длительном пребывании дома сбивается график, причем не только работы, но и жизни в целом.
- У многих при длительном пребывании дома сбивается график, причем не только работы, но и жизни в целом.
- Работая на дому, человек часто пускает многие вещи на самотек. Он привык, что его организовывает работодатель – а здесь приходится делать это самостоятельно. Сотрудник должен сам распределить свое время. Договориться с близкими: «Да, у вас есть ощущение, что я дома – но я работаю. Поэтому не надо ко мне каждые пять минут обращаться: то помой, то вынеси, то с ребенком погуляй. От этого у меня снижается работоспособность». Надо понимать, что никто не придет в нашу жизнь и не устроит ее за нас. Многие живут
так, как будто у нас до сих пор крепостное право: «вот приедет барин, барин нас рассудит». Ждут, когда нам сделают дороги между домами в дачном товариществе, водопровод, газ
– и наш распорядок тоже организуют. Нам пора начинать взрослую жизнь и учиться договариваться: с коллегами, с соседями, с членами своей семьи. Не отмахиваться, не наказывать или подлизываться, а строить коммуникацию.
- Можно ли сидеть дома безвылазно?
- Существует теория третьего места. Исходя из нее, у человека должны быть три места, которые он периодически меняет: в двух ежедневно и в одном несколько раз в неделю.
Дом, работа и храм – или кафе, клуб – место, где мы забываем и о доме, и работе. В храме мы слышим: «Всякое ныне житейское отложим попечение». Забудем обо всем и побудем
наедине с Богом – это полезно и с психологической точки зрения. Во время карантина мы оказались в тяжелом положении: работали на дому, в храм многие не ходили, кафе были
закрыты.
 - Сотрудника, работающего из дома, могут начать воспринимать как бездельника?
- Сотрудника, работающего из дома, могут начать воспринимать как бездельника?
- Руководители должны вести счет ресурсам, которые приносит тот или иной сотрудник, но зачастую начальники руководствуются эмоциями или действуют наугад. Многие верят всевозможным западным теориям: то вводят какие-то рейтинги, то отзывы – но не потому, что знают, как это работает, а потому что где-то чтото услышали – в лучшем случае на
семинаре, а в худшем в каких-то непонятных статьях. Поэтому и руководителям следует учиться руководить, и подчиненным не расслабляться и осознавать, что начальник тоже человек. Надо самоорганизовываться и постоянно ненавязчиво напоминать о себе, показывать свою работу: вносить предложения, докладывать о проделанном. Тогда начальник видит, слышит, понимает: работа идет. И он спокоен. Это забота и о начальнике, и о себе, о своей безопасности. И еще важно расти профессионально. Пандемия показала нам, что необходимо развивать мозг, познавать новое. Не только свою профессию, но и понятия, смежные с ней. Благодаря этому человек становится специалистом более широкого профиля, при необходимости может заменить других
сотрудников, а мышление его делается гибче.
- Так, есть ли жизнь после пандемии?
- Жизнь есть всегда, пока мы живы. Надо только понимать, какие задачи мы решаем. Пока что у многих период жесткой экономии, но когда-то и он завершится. Любая война
заканчивается миром, любой мир заканчивается войной, особенно, если мы пользуемся им не рационально – без благодарения Бога, позволяя себе расшатывать его. Поэтому, если
есть экономический спад, проблемы – надо понимать, что впереди должен быть подъем, и работать на этот подъем уже сейчас. И надо смотреть, какие отрасли, направления перспективны в изменившихся условиях.
- Воспринимая мир через интернет, многие стали запутываться в информации.
- Книги Премудрости Соломона, Иисуса сына Сирахова, Экклесиаст очень хорошо говорят об особенностях человеческого восприятия. Они никогда не изменятся, чем бы это все
ни прикрывалось: словами о демократии, о просвещенной монархии. Всегда будут психопаты, которые пользуются окружающими, будут доверчивые люди и люди трезвые, только соотношение между этими категориями может меняться. Если человек это понимает и знает, какие есть типы поведения – ему легче разобраться в происходящем. Очевидно, что если кто-то истерично требует отдать ему власть, кричит: «Мы здесь власть!» – он просто очень хочет получить ресурсы. Большинство таких людей ничего из себя не представляют. Что они сделали полезного для общества? Чего достигли в личном плане? – Едва ли вы найдете внятный ответ на эти вопросы.
- В СМИ и социальных сетях постоянно мелькают одни и те же люди...
- Они известны потому, что купили наше внимание. В их раскрутку вложены деньги. Это нечто пустое, а на пустоту нельзя опереться. Для того чтобы ориентироваться в информационном мире, надо вовремя задавать вопрос: «Кто это говорит? Откуда
информация?» Тогда мы будем теми самыми благоразумными, упоминаемыми в Писании, которые внимательны к путям своим, и нас никто не поймает в ловушку.
- Многие молодые люди и подростки становятся жертвами манипуляций.
- Зачастую – в силу своей неразвитости. Часто бывает, что родители настолько распускают ребенка, что он делает все, что хочет, не имея ориентиров. В духовную жизнь его не посвящают, поскольку ему это не нравится. Никто не задумывается о том, что необходимо придумать особые мотивации для того, чтобы развить у взрослеющего человека достаточное количество значений, чтобы он мог мыслить, меняя фокус от одного к другому, мог сопоставлять и соразмерять информацию. Существует теория сетки значений, согласно которой все, с чем мы сталкиваемся, отпечатывается в нашем сознании.
Формируется некая связь в головном мозге. С возрастом понятия становятся более насыщенными, их число растет, связи между ними усложняются. Возникают группы понятий. Если у человека не выработалась так называемая общая эрудиция, несущая в
себе основные понятия, то ему будет сложно что-либо объяснить: ему нечего сопоставлять, он не может передвигать фокус мышления от одного понятия к другому. Поэтому, как сказано в Священном Писании: «Глупый верит каждому слову, а благоразумный внимателен». У благоразумного есть благое разумение, он вос-питан – то есть, как губка, напитан определенными понятиями. К примеру, некоторые говорят: «Не будем говорить ребенку о Боге, вырастет – сам разберется, выберет, как ему верить». А из чего ему выбирать? Из ничего и получится ничего. Не имея базовых понятий, он движется инстинктивно, от одной эмоции к другой. А эмоции чаще всего животные. У человека может попросту не быть таких понятий как целомудрие, смирение, жертвенная любовь.
 - Как же принимает решения человек, не имеющий достаточного числа базовых понятий?
- Как же принимает решения человек, не имеющий достаточного числа базовых понятий?
- Такие люди, как правило, идут за большинством: как все вокруг говорят, так и есть. Это называется синдромом социального доказательства. Tсли вложить средства и засыпать
интернет желаемой информацией, ее воспринимают как реальность. Если на видеоролик накручено 100 миллионов просмотров, такие люди думают: «Раз все смотрят, то это
правда». Хотя запредельные рейтинги YouTube шиты белыми нитками. Преподавая в ВУЗе, я сталкивался с тем, что студенты переспрашивали, что значит то или иное слово. А это были простые русские слова. Люди учатся в ВУЗе, а у них нет банальной эрудиции, они не адаптированы социально!
- Такая молодежь очень доверчива и все время ищет, где еще получить развлекающую информацию.
- Молодежь становится хорошим полем для манипуляторов. А уж они-то владеют законами социального доказательства, умеют привлечь, где-то на зависть надавить, где-то на тщеславие. Я заметил, что каждые 20 лет поколение сменяется – и у его представителей возникает полное недоверие к поколению предыдущему. Если у ребенка изначально было взаимное доверие со старшими, ему уделяли внимание, конфликта поколений не происходит либо он проходит мягко. Но если его фактически не воспитывали: кормили, обеспечивали, угождали – но не напитали культурой, понятиями, знаниями, умениями –
процесс инфантилизации продлевается до 30 лет.
- Но такие люди тем более движимы желанием получить ресурсы?
- Да. Хотя они, по сути, еще дети и не знают, как получить эти ресурсы. Они еще ничего не заработали. Но через рекламу, через фильмы в них развивают истерическую жажду обладать. А ресурсы есть у старшего поколения. Исходя из этого, они придумывают теории о «буммерах», «зуммерах» и т.п. – что они якобы такие легкие, свободные, а эти глупые «буммеры» лишь собирают материальное. Но, как только возникает кризисная ситуация, они бегут к родителям, которых сами же считают дураками, ничего не понимающими в жизни, и требуют: дайте на то, на это... Если родители не имеют ума, они все передают в руки юных варваров и остаются ни с чем. С ними тут же перестают считаться, потому что дикое существо считается только с тем, кто опасен или выгоден для него.
Беседовала Алина Сергейчук